Внутренняя администрация
Если говорить о внутреннем управлении, формализованные окказиональные документы могли появляться в связи с деятельностью в трех направлениях: в делах церкви, в делах князя или в делах «частных» лиц; наконец, в смешанных случаях.
Для византийского духовенства бюрократическая работа была привычной, в своей, церковной, сфере духовенство вело свои дела на письме и поощряло такую форму делопроизводства даже в столь неблагоприятных условиях, в какой оно оказалось на Руси. В 1156 г., когда с митрополичьего престола был смещен Климент, чье назначение вызвало большие споры, Константин, его преемник, одобренный Византией, издал указ, согласно которому все поставления, произведенные в церковной иерархии Климентом, объявлялись недействительными до той поры, пока получившие поставления не представят в письменном виде проклятия по адресу Климента.
Возможно, требование такого рода процедуры в рамках собственной юрисдикции митрополита являлось вполне логичным ходом мысли, но вот запрашивать чего-то сходного от мирян было делом менее реалистичным. Между прочим, в 1228 г. Герман II, патриарх Константинопольский, писал Кириллу I, поставленному митрополитом в Rhosia, относительно некоторых установившихся в русской церкви обычаев. Беспокойство патриарха, среди другого, вызывали сообщения о том, что к рукоположению в священники готовят рабов.
Герман настаивал, что такая практика недопустима, разве только еще до получения священником-рабом сана хозяин его в письменном виде покажет свои распоряжения, дающие этому рабу свободу. Однако одного распоряжения патриарха оказалось мало, чтобы изменить местные обычаи, и через пятьдесят лет, на Владимирском соборе 1273 г., митрополит Кирилл И, похоже, был вынужден повторить то же требование: раб может стать священником только после того, как хозяин освободит его, снабдив необходимым для этого «документом». Получается, что даже в конце XIII в. духовенство сталкивалось с устойчивой традицией вести дела в устной форме.
Нужно сказать, что церковь все же добилась некоторых успехов, убеждая мирян не пренебрегать формальным закреплением на письме совершаемых ими операций, особенно когда эти операции производились в пользу самой церкви. Все дошедшие до нас формальные документы XII в. административного содержания, будь то оригиналы или копии, касаются вкладов или других распоряжений относительно собственности, передаваемой церкви или монастырям.
В каком- то смысле данные документы отражают расширение той деятельности, которую мы наблюдали, рассматривая нормативные кодексы, изданные церковью и удовлетворяющие нужды церкви: и нарезание для себя земель, и отписание доходов, и использование технологии архивирования для того, чтобы не изгладились из памяти обещания, полученные церковью и закрепляющие за ней часть мирского богатства и часть мирской собственности.
Возьмем, например, дошедшую в позднейших списках группу, включающую четыре документа, которые все относятся к Смоленской епархии: весьма детализированная грамота князя Ростислава Мстиславича, в которой расписано, какие именно суммы и из каких областей должны поступать в епархиальный центр с момента его возникновения в 1136 г.; составленное Мануилом, первым местным епископом, короткое письменное подтверждение установлений грамоты; дополнительный вклад того же Ростислава, датированный 30 сентября 1150 г.; наконец, еще один дополнительный вклад, видимо, относящийся ко второму десятилетию XIII в. В 1136 или 1137 г., в то же почти время, когда Ростислав в Смоленске обеспечивал документацией свои дотации в пользу церкви, иногда даже используя некоторые из формулировок Ростислава, князь Святослав Ольгович выпустил грамоту, уточняющую, правда, гораздо более лаконично, из чего состоит десятая часть доходов, которую он передавал епископу Новгорода.
С монастырями дело обстоит так: четыре документа, также относящиеся к 1130-м гг., включая самый древний из сохранившихся в оригинале, фиксируют вклады князя, преимущественно земельными наделами, Юрьеву и Пантелеймонову монастырям, что в ближайших окрестностях Новгорода; примерно от того же периода до нас дошел документ, в позднейшей копии и вместе с наставлениями дисциплинарного свойства, говорящий о вкладе Антония Римлянина в новгородский монастырь, где он сам был настоятелем; когда-то ближе к концу XIII в. некий Варлаам Михалевич подарил весьма обширный участок земли монастырю Спаса в Новгороде.
Менее определенными являются признаки, которые указывают на то, что формализованное окказиональное делопроизводство нашло себе место в светских делах княжеской администрации, когда она занималась мирянами, а не церковными делами. Может статься, что одним из признаков существования княжеского делопроизводства является наличие печатей. Поначалу они попадаются от случая к случаю и смысл их не вполне ясен, но начиная с середины XI в. княжеские печати встречаются регулярно, и чем дальше, тем их становится больше.
Можно думать, что изначально печати прикреплялись к листам пергамена с написанными от имени князя сообщениями, но из дошедших до нас печатей нет ни одной, которая относилась бы ко времени до XIII в. и находилась бы на положенном для нее месте, при подлинном документе, а сами по себе печати не позволяют решить, для удостоверения какого типа документов они предназначены. Отдельные типы княжеских писаний представлены совсем неплохо, например, дипломатическая и прочая корреспонденция, записи о вкладах в церковь, нормативные кодексы, договоры.
Однако количество сохранившихся печатей, а известно их около тысячи двухсот, значительно превосходит количество сохранившихся документов, так что о способах их применения можно лишь догадываться. Державшаяся с середины до конца XI в. манера надписывать печати по-гречески наводит на мысль, что речь идет о каких-то деловых сношениях с церковью или с Византией.
Похоже, что значительная часть печатей из числа сохранившихся использовалась при переписке между членами династии, но ни одной из гипотез нельзя отдать предпочтение из-за отсутствия подтверждающих ее данных. Указания более определенного рода, касающиеся формализованного окказионального делопроизводства князей, попадаются начиная с рубежа XII и XIII вв.
Эти указания относятся к памятникам, разбросанным на широком пространстве, причем в каждом отдельно взятом памятнике редко содержится удовлетворительное объяснение причин его создания, но они накапливаются быстро, что нельзя считать случайностью, а хронология их появления соответствует той схеме, которая нам знакома по другим материалам.
Краткая редакция «Русской Правды» XI в. включала статью (№ 9), в которой уточнялось, какие подати следовало взыскивать на местах для содержание «вирника» по княжеским делам: сыра — по средам и пятницам, хлеба — сколько тот в силах съесть, по два цыпленка в день и т. д. Пространная редакция, которая отражала узаконения, принятые в течение XII в., повторяла те же детали, но добавляла еще статью (№ 74), относящуюся к более широкой группе сборщиков дани: столько-то назначается для «отрока» и, что для нас важно в теперешнем контексте, — «писцу десять кун».
Получается, что в какой-то момент, в течение времени, отделяющего составление краткой редакции «Русской Правды» от составления пространной — в том виде, в каком эта последняя до нас дошла, подати, которые собирал обходивший владения князя агент, стали записывать, и делали это, видимо, достаточно регулярно, причем записью ведал специально назначенный князем служащий.
В первом же из сохранившихся договоров между Новгородом и князем — в договоре 1264 г. с Ярославом Ярославичем — наложены ограничения на право очередного князя распоряжаться землей. О каких грамотах идет речь? Один из издателей договора полагает, что речь идет в широком смысле о записанных судебных решениях, но, исходя из контекста, мы вправе предполагать, что у слова значение более конкретное: в упомянутых здесь грамотах содержались записи о раздаче земель или доходов с этих земель.
В неустойчивой политической ситуации, когда князья-русы, представлявшие династию, постоянно перемещались с места на место, их перемещение могло нарушить положение всех, кто находился на низших ступенях иерархии: новый князь приводил с собой новых людей или находил опору в новых слоях местного населения, причем князю необходимо было выкроить место для своих приближенных и обеспечить свое собственное существование.
Составители новгородских договоров, главным образом, озабочены были тем именно, как им ограничить и ввести в определенные рамки права князя в отношении местных земель и, соответственно, уберечь себя от повторяющейся каждый раз, в связи со сменой правителя, перетасовки этих земель. Проект договора 1264 г. доказывает, что к середине XIII в. распределение земли в Новгороде подкреплялось письменным документом.
Из договора следует, что обеспечение документацией нарезанных земельных участков стало обычной практикой, стереотипом поведения. Мы не можем сказать, когда эта практика укоренилась (нет никаких сведений о ее распространении вплоть до появления документа 1264 г.). Прошло сто лет или чуть больше, и в спорах по имущественным делам такого рода грамоты стали использоваться на судебном процессе в качестве доказательства.
Население Берестья могло только позавидовать многообразным проявлениям могущества новгородцев. В1288 г. жители этого города совершили ошибку, приняв не ту сторону в конфликте между князем
Мстиславом Даниловичем Владимиро-Волынским и его племянником Юрием Львовичем. Юрия изгнал из Берестья его собственный отец. В начале 1289 г. в город прибыл Мстислав и продиктовал населению свои условия. Приведенный текст, как и рассказ о предшествовавших его появлению событиях, включен в Волынскую летописи, в которой читаются также последние распоряжения и завещание предшественника Мстислава, бывшего вместе с тем главным героем летописца, — князя Владимира Васильковича, Эти распоряжения касаются распределения земель князя. На первый взгляд, завещание Владимира Васильковича — текст того типа, который традиционно помещается в летописи, и следует он такому общеизвестному прецеденту в ПВЛ, каким является находящееся там же завещание Ярослава Мудрого.
Но летопись умалчивает, как именно было составлено завещание Ярослава, и нет уверенности, что оно вообще когда-либо существовало вне летописного повествования, как выписанный отдельно текст. Летописец конца XIII в., напротив, всячески подчеркивает, что завещание Владимира было написано по его личному распоряжению, и даже то, что оно было изготовлено в трех экземплярах. Совершенно очевидно, что Мстислав, брат Владимира, владелец одного из экземпляров завещания, считал этот запечатленный на письме документ основанием для своих притязаний на княжеский стол. Поэтому он приказал огласить завещание в главной церкви города.
Мы имеем право сравнить действия Владимира и Мстислава со столь же целенаправленными попытками Всеволода Ольговича, князя киевского, передать княжение своему брату, попытками, делавшимися за полтора века до описываемых событий: в том и в другом случае перед нами серия деклараций частного и общественного свойства, но киевский князь полагался лишь на целование креста, не существует никаких намеков на изготовление тогда соответствующих документов. Нарочитое выдвижение на первый план формализованных документов, как мы это видим в заключительной части Волынской летописи (1288—1289 гг.), производит впечатление сознательной новации.
Такого рода источники, хотя и не стали к концу XIII в. делом заурядным, появляются в новых и новых ситуациях. В виде подлинного документа, скрепленного к тому же печатью и датирующегося 1284 г. (это один из двух текстов, записанных «Федорком, писцом княжим»), дошел до нас приговор князя Федора Ростиславича Смоленского, вынесенный им по поводу коммерческого спора между немецким и смоленским купцами. Этот приговор представляет собой самую древнюю из протокольных записей судебного решения, которая нам известна в подлиннике.
К концу того же XIII в. (хотя, возможно, и к более позднему времени) относится и любопытная подделка: это детальная инструкция, якобы составленная князем XII в. Всеволодом Мстиславичем, о том, каковы должны быть подати новгородских купцов при церкви Св. Иоанна и каковы их обязанности. Появление подделки свидетельствует не только об отсутствии нужного людям подлинного текста, но также — а это для нас более существенно — показывает признаваемую всеми ценность и статус формального документа.
Кроме того, в промежутке времени от середины до конца XIII в. мы впервые встречаемся с подлинными формальными документами, которые, хотя они по-прежнему как-то связаны иногда с церковью, иногда с князем, сопровождают сделки и споры частного или мирского характера. Старшее из дошедших до нас подлинных завещаний было составлено новгородцем по имени Климент, по-видимому, около 1255—1270 гг. Главная цель, которую преследовал Климент, заключалась в том, чтобы завещать свои владения Юрьеву монастырю, так что в каком-то смысле этот документ можно причислить к той же группе, что и записи о вкладах в церковь.
Но завещание Климента не является обыкновенным актом, сопровождающим дарение. Хотя у этого Климента не было ни братьев, ни сына, он уже взял на себя некоторые обязательства до того, как оформил завещание. Прежде всего, он уже обещал часть своей собственности другим: одну деревню Каллисту, еще одну Андрею Воиновичу, причем последнюю в обмен на выплату «литовского выкупа»; жеребца он отдавал Володиславу Даниловичу. Кроме того, он должен был позаботиться о своей жене: ей надлежало получить городской дом Климента вкупе с половиной принадлежащих ему коров, овец и свиней.
Самый же неприятный нюанс заключался в том, что большая часть денег Климента была отдана им в кредит, так что значительная часть завещания представляла собой список должников, с которых монастырю предстояло взыскивать долги. Высказано убедительное предположение, что Климент решил сделать свои распоряжения в письменной форме, потому что у него не оказалось близких родственников мужского пола, которые, будь этот случай типичным, взяли бы на себя ответственность за его имущество, руководствуясь нормами обычного права.
Завещание Климента относится примерно к тому же времени, что и древнейший из сохранившихся на пергамене протоколов с формальным разрешением спора между частными лицами: Яким и Тешата, жители Пскова, пришли к соглашению о том, что последний может требовать от жены первого какие-то предметы украшения. Представляется маловероятным, что данный спор современники рассматривали бы в полной мере как частное дело. Достойно внимания в этой связи, что документ, составленный в присутствии семи названных по именам свидетелей, из которых на первое место вынесен священник, был записан «Довмонтовым писцом», то есть писцом князя Довмонта, правившего Псковом с 1266 по 1299 г.
Как видим, общие хронологические ориентиры, отражающие процесс усвоения формальной окказиональной письменности для административных нужд, подкрепляются свидетельствами разного свойства. Все же, как бы ни были многозначительны эти совпадения, они не обязательно складываются в общую картину. Помимо распоряжений, которые были даны «на самом деле», представленных в сохранившихся документах, мы должны принять в расчет и косвенные данные, то есть намеки и аллюзии, двусмысленные отрывки.
В результате переворота, частично организованного суздальским князем Всеволодом Юрьевичем, в ноябре 1207 г. Новгород сместил посадника Дмитра Мирошкинича. На следующий год, в феврале, новгородцы-сторонники Всеволода «целовали крест» его одиннадцатилетнему сыну Святославу. Что это были за «дощечки»? Если взять за точку отсчета положение вещей в более позднее время (конец XIV—середина XV в.), мы вправе утверждать, что располагаем по данному вопросу весьма подробными сведениями. О фиксации собственности на «досках» упоминается в Псковской Судной грамоте.
Как мы можем понять из контекста, «доски», хотя за ними и признавалось какое-то значение как за носителями записи, не имели того авторитета, которым пользовался формальный письменный документ («рукописание», «запись»). Если текст новгородской летописной статьи заслуживает доверия, то через него мы получаем свидетельство об использовании «досок» для записи долгов или сделок, сделанное почти на два века раньше, чем контекст, когда интересующее нас слово вновь встречается в связи с юридической или финансовой деятельностью.
Не подлежит сомнению, что новгородцы в феврале 1208 г. рассматривали «Дмитровы дщчки» как нечто, обладающее авторитетом, как предмет, имеющий реальную ценность. Но что же на них записывалось и как они выглядели? Представляли ли они из себя списки должников Дмитра, какой-то аналог долговых расписок? Или это был просто перечень собственных владений Дмитра? Имеются ли в виду вощеные деревянные таблички? Или это были деревянные бирки с зарубками?
Как бы мы ни отвечали на поставленные вопросы, ссылка в летописной статье 1207 г. на «доски» Дмитра доказывает, что какая-то — не обязательно занесенная на пергамен — форма записи о собственности рассматривалась как функционально значимая и признавалась вполне официально.
Из числа «архивов», не связанных с пергаменом, наиболее интригующими являются, конечно, берестяные грамоты. Письменность на бересте в интересующий нас период принадлежала к категории эфемерной, а не формальной. Береста служила материалом для письма, который, случалось, использовали, чтобы модулировать те или иные действия, но ею не пользовались, ее не хранили, к ней не обращались как к средству запечатлеть некие действия. К писанию на бересте были причастны люди, которые заключали формальные сделки, но берестяная грамота не являлась частью предусмотренной документальной процедуры.
На самом деле, многие из грамот свидетельствуют как раз об обратном, о том, что формальные процедуры сохранялись в виде устных ритуалов: таковы, к примеру, грамоты, в которых получателю объясняется, что он должен сказать при подаче жалобы; таковы и грамоты, свидетельствующие о неразберихе, которая возникала из-за отсутствия каких-то сведении в записанном виде.
Все же в некоторых случаях — немногих, но, возможно, существенных — берестяные грамоты, кажется, позволяют предположить (или, во всяком случае, оставляют место для предположения), что за ними стоит какая-то документация более формального сорта: что берестяная грамота, возможно, есть лишь эфемерный и побочный продукт какой-то формальной процедуры. Наиболее ясное указание находится в пространном послании, относящемся к середине XII в. и адресованном от «Кузмы и его детей» к некоему Рагуилу «старцу». Кузма с Рагуилом участвуют в споре о том, кто кого обманул.
Если мы учтем находящийся в письме Кузмы намек на скрытый за сценой мир, в котором люди пользуются пергаменом, у нас есть возможность аналогичным образом интерпретировать другие берестяные грамоты. В письме, которое найдено в Звенигороде, на юго-западе от Галича, и которое по археологическим показателям датируется первой половиной XII в., содержится жалоба и угроза: «От Говеновой вдовы к Неженецу: дай 60 кун на лодку. (Так) постановил Говен перед смертью и поп записал это. Отдай (куны) Луке. Если не дашь, я призову отрока от князя, и это будет стоить тебе еще дороже».
В других берестяных грамотах также содержатся угрозы привлечь для взыскания долга вышестоящих лиц, но ни в одной из известных на сегодняшний день грамот нет ссылки на авторитет письменного документа (или, в расширительном смысле, на того священника, который фиксировал этот документ) в доказательство того, что долг не заплачен. Письмо от имени вдовы Говена формулируется настолько кратко и так умело обходится без конкретных деталей, что мы почти лишены возможности восстановить ситуацию, при которой оно было составлено.
Когда Говен привлек священника для записи того, что ему должны, являлось ли это его личной инициативой или такова была обычная практика? Представлял ли собой этот (гипотетически восстанавливаемый) документ обыкновенный список должников, или — поскольку вдова подчеркивает, что заявление Говена было сделано на смертном одре — его необходимо рассматривать как особый жанр, выражение последней воли Говена, его завещание?
Сложившееся у нас представление об устном по преимуществу характере древнейшего делопроизводства остается в силе, однако содержащиеся в берестяных грамотах намеки предполагают наличие скрытого от наших глаз пейзажа, не вполне избавленного от всех вообще формальных документов, как то можно было бы предполагать на основании сохранившихся и различимых глазом данных.
Маленькими тропинками и незаметно — так некоторые из процедур, связанных с развитием формальной письменности, становились постепенно обычными явлениями не только в официальной сфере, но и в частной жизни людей.
Какое значение имело написанное слово и каков был его вес в качестве средства, призванного помочь индивидууму правильно вести себя в личной и общественной жизни? Наш обзор показывает, что на этот простой вопрос нет простого и однозначного ответа. У письменности «как таковой» не было своего особенного места в социальных отношениях. В зависимости от того, в какой среде и когда использовалось это средство общения, у него был весьма различный по степени значимости статус.
Эфемерная письменность распространялась быстро, ее легко усвоили в целой серии традиционных для города родов деятельности, и свидетельства о ее бытовании как общепринятой технологии известны во множестве по крайней мере с середины XI в. Формальная и нормативная письменность административного значения приживалась гораздо медленнее.
Разрозненные свидетельства о попытках ввести нормативные кодексы прослеживаются начиная с XI в., а разрозненные свидетельства о существовании формальных документов начинают появляться с XII в. Однако признаки того, что люди стали использовать нормативную и формальную письменность для служебных целей более регулярно, более активно и более разнообразно, — такого рода признаки становятся заметны лишь в течение XIII в.
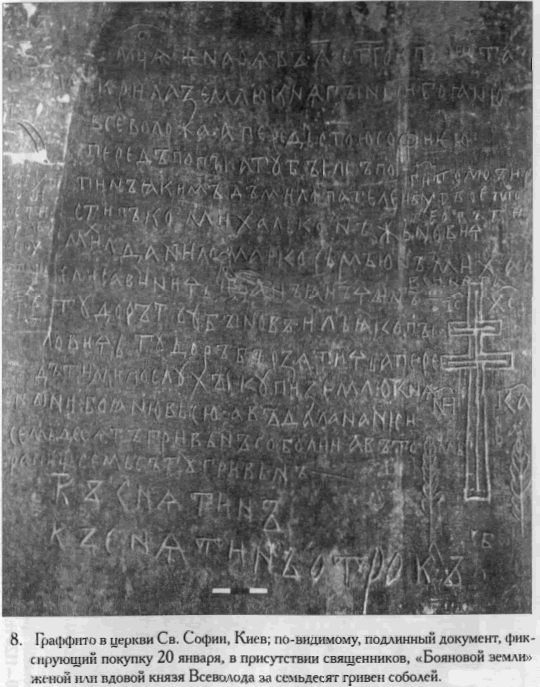
Различия между эфемерной и формальной письменностью лежат на очень глубоком уровне, если взглянуть на них с точки зрения социокультурной динамики. Использование эфемерной письменности не требует никаких особенных условий, кроме овладения некоторыми технологическими приемами. Эту письменность легко приспособить к традиционным видам деятельности, она не понуждает прибегающих к ней производить большие перемены в самом процессе той или иной деятельности.
Овладение нормативной и, особенно, формальной окказиональной письменностью служебного назначения предполагает создание специальных структур, занятых ее использованием: имеется в виду набор общепринятых операций, наличие обученного персонала, бюрократии, перемены в органах и методах общественного контроля. Не исключено, что заторможенное усвоение на Руси формальной административной письменности объясняется относительной надежностью и — одновременно — устойчивостью традиционных способов общественного контроля.
Способы регулировать поведение людей, эффективные и весьма изощренные, вполне могли поддерживаться традицией, не предполагая обязательного обращения к формальным операциям с письмом. Поэтому естественна та тенденция, которую мы прослеживаем в имеющихся фактах, когда формальная письменность служебного назначения зарождается и упрочивает свои позиции преимущественно на обочине культурного процесса: в сношениях с чужеземцами, для которых использование письменности в практических целях было уже делом обычным (внешняя торговля и дипломатия); при взаимоотношениях внутри данного общества, когда ему приходится сталкиваться с явлениями, которые разрушают освященные традицией отношения собственности; или с такими, которые стремятся изменить традиционные способы поведения и традиционные способы разрешения конфликтов (официально признанная церковь, монастыри, до некоторой степени князь русов). С письменностью оказываются связаны в большей мере социальные и культурные границы данного общества, нежели обычные формы его воспроизводства.
Медленно, но верно активность на периферии культуры перемещалась к центру, становилась чем-то заурядным. Хотя эфемерная письменность административного назначения представляет собой один из самых ранних на Руси способов использовать записанное слово (вспомним, например, надписанные деревянные цилиндры или надписанные счетные бирки), тем не менее прогресс, пускай весьма скромный по своим масштабам, в развитии формального делопроизводства, по всей видимости, обеспечивался адаптацией процедур, связанных с письмом и удовлетворявших запросы церковной организации или того, что находилось рядом с ней: таковы кодексы для внутреннего пользования; кодексы для представителей духовенства; кодексы, обеспечивающие авторитет церкви в «мирской» жизни (княжеские уставы); документы, подтверждающие сделанные в монастырь вклады, и т. д.
Навыки обращения с документами, принятые в жизни церкви и подкрепленные требованиями, которые утвердились в международных отношениях, откликались в виде эха, едва уловимого, но все же различающегося ухом, в светских административных приемах, которые получили распространение на местах. А некоторые субъекты, возможно, пользовались полученными навыками при устройстве своих личных дел. И все же нет решительно никаких оснований утверждать, что формальное делопроизводство еще и в конце XIII в. стало в обязательном порядке сопровождать сколько-нибудь значительное количество сделок.
Правила хранения или выдачи документов не указаны нигде, не говоря уже об отсутствии даже намека на сколько-нибудь систематизированный их склад, напоминающий архив. Большая часть новгородских торговых документов сохранилась в архивах Риги, а в тексте единственного документа на славянском языке мы находим откровенное признание, что предназначенный для архива шкаф Новгорода фактически стоит пустой.
Как и прежде, нам еще далеко до той сложной иерархии крючкотворцев, сидящих в административном аппарате, которая так затрудняла работу современного описываемой эпохе византийского «atriklines», когда он готовил церемонию праздников; нам далеко даже до «typikon» монастыря Григория Пакуриана (XI в.), где перечислены, помимо двух дюжин документов, хранившихся в самом монастыре, девятнадцать хрисовулов, пять других документов, касающихся собственности, и шестьдесят пять кратких императорских распоряжений — «pittakia», которые были в целях сохранности скопированы и помещены в Великой Церкви Константинополя.
Ясно вместе с тем, что сила течения нарастала: начался процесс такого рода, что его нельзя ограничить одним каким-то местом или связать с одной специфической ситуацией, процесс, более всего заметный в Новгороде, но характеризующийся признаками, которые можно найти также в Смоленске, в Пскове, на Волыни — если брать земли, ближе всего лежащие к западу, или во Владимире — если говорить о землях на северо-востоке.
В настоящей главе мы рассматривали данные, свидетельствующие о длительном и непрямолинейном переходе от ничего к чему-то, о движении, направленном от жизни без административной письменности, к другому способу существовать, — когда налицо использование операций с письмом в служебных целях. Следующая стадия такого перехода, именно когда возникают более упорядоченные бюрократические методы и формируются необходимые для них структуры, — эта стадия выходит за хронологические рамки настоящего исследования.